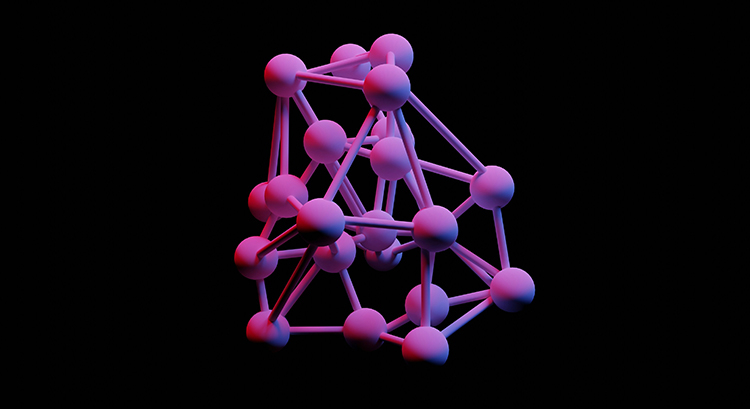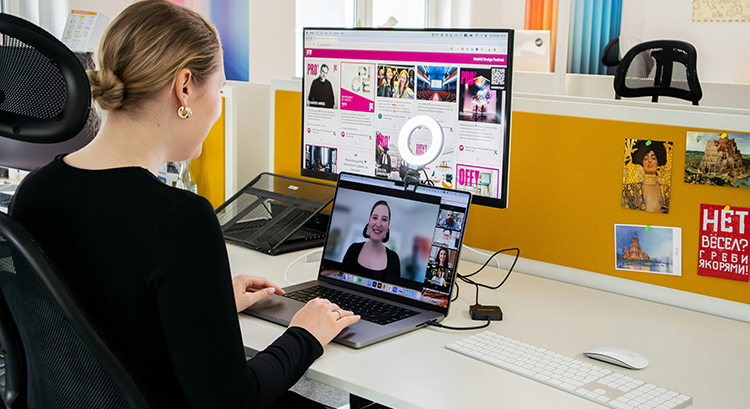Когда граница исчезла — и вернулась
«В первые годы после запуска ЕАЭС было ощущение настоящей свободы, — вспоминает Плотников. — Мы пересекали границы как по шоссе: никого не интересовал ни вес груза, ни что в нем, ни где он окажется потом. Это было удобно — и иллюзорно».
Ситуация изменилась в 2020 году. Сначала — пандемия. Затем — усиление санкционного давления. К 2022 году граница вновь стала зоной полной неопределенности. Возвратились проверки, досмотры, электронные очереди, многоступенчатые разрешения и новые формы контроля: ветеринарные, фитосанитарные, налоговые.
«Идея союза осталась, но на практике все превратилось в ручное управление. С каждой машиной — как на минном поле. Сработает — не сработает», — отмечает эксперт.
Факторы хаоса: от цифровизации до человеческого фактора
Одной из самых болезненных тем стал запуск электронной очереди в Казахстане.
«Сейчас водитель не может просто приехать и пересечь границу. Он обязан зарегистрироваться в системе. Но если у него нет мобильного приложения, казахстанского номера или доступа к Wi-Fi — все, он в ловушке. А в ночное время техподдержка не отвечает», — делится Плотников.
Системные сбои приводят к тому, что машины стоят сутками. Часто — без объяснений. С другой стороны, Россия ужесточает контроль за вывозом. Сегодня экспорт из РФ требует целого набора формальностей: от запрета по ТН ВЭД до требований по подтверждению происхождения товара.
«Раньше главной проблемой был простой фуры на складе. Сейчас — ее простой на границе, причем в цифровом вакууме. Это уже не логистика, это борьба с интерфейсом», — подчеркивает Плотников.
ТН ВЭД: мир, где ошибка стоит как грузовик
Одним из самых тонких моментов стал таможенный код — ТН ВЭД. Даже незначительная ошибка в нем делает невозможным пересечение границы.
«Вы можете везти комплектующие к технике. Указали одну цифру неверно — и вы уже везете промышленную технику. А это — совсем другая квота, другие разрешения, другие санкционные ограничения», — объясняет эксперт.
Чтобы не попасть в такую ловушку, компании вынуждены расширять штат: юристы, брокеры, операторы, менеджеры по документации. Все это — дополнительная нагрузка, особенно для малого бизнеса.
Казахстан и Россия: союз на бумаге, барьеры в реальности
Несмотря на декларации, между странами существуют десятки расхождений. Где-то не стыкуются цифровые платформы. Где-то нет единого реестра разрешений. Где-то действует местная «традиция» проверки.
«Граница — это не только пограничный переход. Это конфликт трех баз данных, трех правовых полей и пяти разных регламентов. И ты должен все это учитывать, даже если просто перевозишь муку или пластик», — подчеркивает Плотников.
Цена неопределенности
По расчетам DSP LOGISTICS, простой одной машины на границе обходится компании в 30 000–50 000 тенге (5–7 тысяч рублей) в сутки. К этому прибавляется:
- потеря клиента;
- штрафы за срыв поставки;
- оплата переработки документов;
- внеплановая логистика (переезд, разгрузка, переупаковка);
- риск порчи товара, особенно при температурных ограничениях.
Как адаптируется бизнес
Чтобы выжить, компании вроде DSP LOGISTICS переходят на полностью ручной формат управления:
- каждый маршрут рассчитывается заново;
- каждый код — перепроверяется;
- каждый документ — создается под текущий день.
«Даже если вчера вы провезли товар без проблем — сегодня все может поменяться. Кто-то изменил алгоритм, и все. Мы звоним, проверяем, переписываем, снова подаем заявку. Это нервно. Но иначе — никак», — говорит Плотников.
Он лично участвует в операционной работе. В компании создан мини-штаб, где пересматриваются маршруты, отслеживаются изменения, консультируются водители.
Что не работает — и не заработает
Плотников скептически относится к идее, что система быстро вернется к «плавной логистике».
«Никто не отменит санкционное давление. Никто не отменит локальные амбиции. И пока нет политической воли синхронизировать регламенты — мы будем жить в этой зоне риска».
Но, по его мнению, именно в такой среде выживает и растет сильный бизнес: «Логистика всегда была про движение. А сейчас — про адаптацию. Кто не умеет менять маршрут на ходу — тот остается на обочине».
Что дальше
Сегодня Плотников работает над научной статьей об оптимизации трансграничной логистики. В ней он описывает реальные кейсы, сбои и предлагает конкретные механизмы для устранения конфликтов: единая база кодов, универсальная очередь, электронная карта рисков.
«У нас в регионе логисты лучше понимают, как работает ЕАЭС, чем некоторые регуляторы. Потому что мы видим это на дороге. Каждый день. И, может быть, пришло время бизнесу говорить громче».






 Скопировать ссылку
Скопировать ссылку